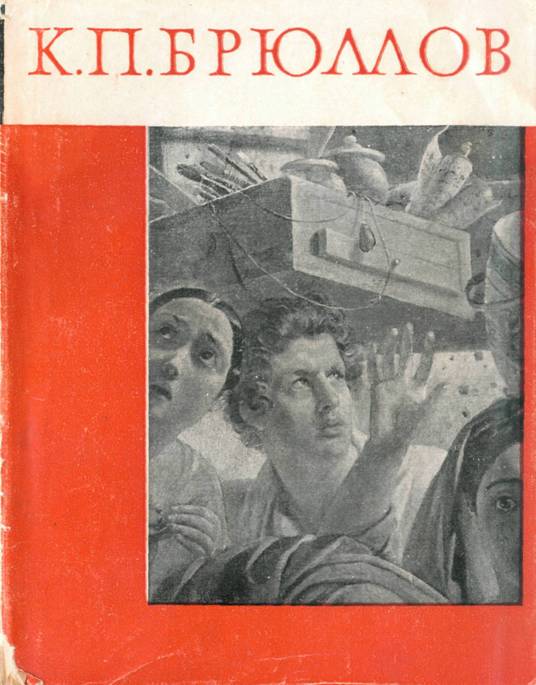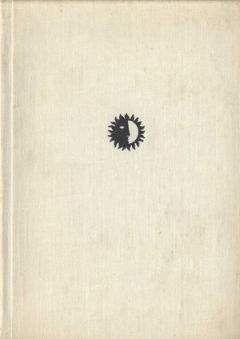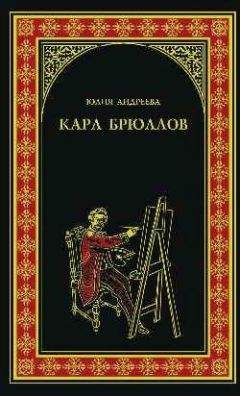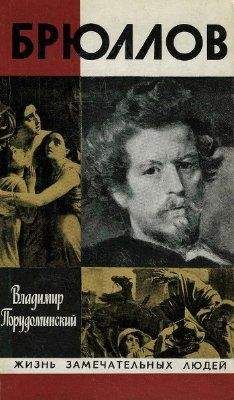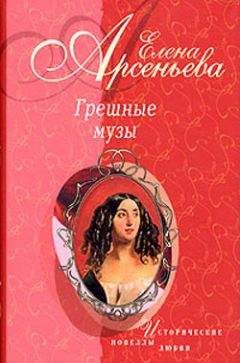древних храмов и руины дворцов-вилл императора Адриана и покровителя искусств Мецената, блистательный ансамбль архитектуры и парка виллы д'Эсте (XVI столетия) - все делало Тиволи заветным местом для художников. Брюллов впервые увидел там памятники древности в окружении южной природы: античность являлась ему не в музее, но воскресшей, живой, волнующе близкой. В отчете за первое полугодие пребывания в Риме Брюллов хвалил признанные классическими (и действительно выдающиеся) картины Рафаэля, Доменикино, Караваджо; вместе с тем он сообщал о рисовании со статуй и натурщиков, о том, что он начал работы «Филоктет» и «Юдифь и Олоферн». Назвав мифологические темы, он писал: «Сильнейшим моим желанием всегда было произвести картину из российской истории». Она должна была изображать Олега, заключающего мир с императором греческим у стен Константинополя.
Общество поощрения художников, справедливо заметив, что подобные картины лучше писать на родине, неожиданно посоветовало заменить сцену из русской истории изображением группы святых, одноименных лицам царской семьи. Пока шел обмен письмами, Брюллов закончил (в начале 1824 года) картину «Итальянское утро» [*]. [* Картина поступила в Зимний дворец, но пробыла там, по-видимому, не очень долго. Существует предположение, что она находится в Воронежском музее изобразительных искусств, но доказательств в пользу этого мнения не опубликовано, и воронежский экземпляр (исполненный с большим мастерством) приходится пока считать одной из копий. «Итальянское утро» известно по литографии В. И. Погонкина 1820-х годов].
Брюллов писал Обществу еще в период работы над ней: «Я освещал модель на солнце, предположив освещение сзади, так что лицо и грудь в тени и рефлектируются от фонтана, освещенного солнцем, что делает все тени гораздо приятнее в сравнении с простым освещением из окна».
Итальянское утро. Литография
В. И. Погонкина. 1824
В Академии 1810-х годов таких работ почти не было, во всяком случае ими пенсионеры не отчитывались. Здесь можно усмотреть первые признаки «снижения» тематики академической живописи: молодые мастера стремились найти пути к жизненной выразительности искусства.
Нет даже намека на какую-либо героизацию образа в «Итальянском утре». Чтобы передать очарование человеческой юности, Брюллов находит новые приемы освещения, широко использует рефлексы, пластичность и иллюзорность форм. Последнее особо привлекло внимание А. С. Пушкина, увидевшего картину на выставке Общества поощрения художников в мае 1827 года. Перед «Итальянским утром» Пушкин задержался и заметил: «Странное дело, в нынешнее время живописцы приобрели манеру выводить из полотна предметы и в особенности фигуры; в Италии это искусство до такой степени утвердилось, что не признают того художником, кто не умеет этого делать…» [4].
В 1824 году он написал картину «Дафнис и Хлоя» [*] (Павловский дворец-музей). О работе Брюллова над нею не сохранилось никаких указаний, но обращение его к этой теме и ее живописное воплощение очень интересны. В 1820-х годах в Западной Европе прошла полоса увлечения романом Лонга о любви Дафниса и Хлои. [* Находится в экспозиции Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа. Раньше была принята за картину «Улисс и Навзикая» 1819 года.]
Брюллов не мог не прочитать «модной» книги античного автора. Поэзия образов юноши-пастуха и его подруги поразила Брюллова, и он пытался ее передать, точно показав одну из центральных сцен повествования.
«…Была там пещера нимф в скале огромной, внутри пустой, снаружи закругленной; самих же нимф изображенья из камня высечены были: ноги босые, руки нагие, кудри вились по плечам, пояс на бедрах, в глазах улыбка…
…Омывает Дафниса Хлоя, к нимфам его приведя и в пещеру его введя. И сама впервые тогда обмыла тело свое на глазах у Дафниса, белое, чистое в красоте своей…» [5].
Картина далека от совершенства, она не обладает блеском исполнения, размахом замысла; черты манерности грозят подменить пленительное простодушие рассказа. И тем не менее она свидетельствует, что лирическое начало вытесняет «высокую» героику, взволнованность сменяет прежнюю бесстрастность; призраки античного мира оживлены романтическим пафосом автора, приобретают одухотворенность и человечность. Великий Гёте указал на Duft der Zart-heit в романе Лонга. Это «благоухание нежности», бесконечно далекое от академизма XIX века, угадывается в чертах девушки «Итальянского утра», живет в образах Дафниса и Хлои.
Брюллова в том же 1824 году то занимает библейский эскиз («Братья Иосифа»), то «Вакханальский групп» (фавны, вакханка, маленький сатир - «все сии фигуры написал с натуры»), то аллегория, то римские легенды («Беседа Нумы Помпилия с нимфой Эгерией»). Он пишет много портретов, в том числе членов семьи дипломата князя Г. И. Гагарина, с которой он вскоре подружился. Он написал картину «Эрминия у пастухов», изображающую сцену из поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» (картина, находящаяся в Государственной Третьяковской галерее, не вполне закончена). Одна из героинь поэмы о первом крестовом походе, царевна Эрминия, в поисках отдыха и ночлега идет на «звук отрадный». Тепло и человечно передал художник «любезный привет» Эрминии и смущение пастухов, увидевших деву-воина. Можно сказать, что в картине улавливается веяние гуманизма эпохи Возрождения, культурой которого была рождена поэма Тассо (законченная в 1575 году).
Общество поощрения художников предостерегало братьев Брюлловых при их отъезде от увлечения «простой» действительностью, сожалея, что «теперь люди, к несчастью, предпочитают пейзажи, внутренности, сельские сцены» Но развитие бытового жанра было не модой, а исторической неизбежностью. То же самое Общество во многом помогло этому процессу в России, «поощряя» Венецианова и его учеников. В развитии бытового жанра сказал свое слово и Брюллов. После узких коридоров Академии, после ее классов и музея он увидел залитую солнцем родину классического искусства и мраморы, которые прежде знал только в гипсовых отливках. Его изумила жизненность античных памятников: «это надо видеть, а не описывать. То, чем мы восхищаемся в гипсе, то в мраморе поражает! Сквознота мрамора делает все нежным […]; Аполлон не кажется уже каменным и слишком отошедшим от натуры, - нет, он кажется лучшим человеком!» - писал он брату Федору из Рима летом 1824 года. И продолжал: «Первое, что я приобрел в вояже, есть то, что я уверился в ненужности манера. Манер есть кокетка или почти то же».
Как близки эти мысли к тем, которые волновали в те же годы Венецианова, стремившегося «оставить все правила и манеры», чтобы «ничего не изображать иначе, чем в натуре является».
Брюллов в середине двадцатых годов написал ряд сцен итальянской жизни. Ему не было дано показать мечту итальянского народа о свободе, его борьбу против угнетателей страны (восстания против правительства и против гнета австрийцев бушевали в Италии накануне приезда Брюллова), но простых людей Италии он показал так, как мало кто в его эпоху, -